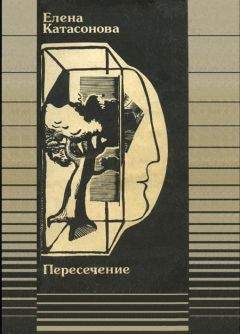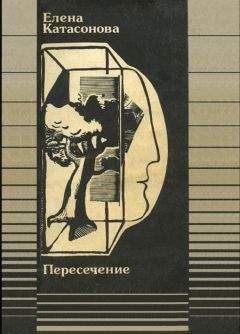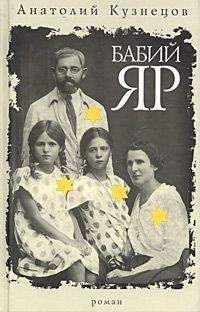Что б ни случилось,
Я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду,
В Вологду-гду,
Сам я за ответом приду…
Бессмысленное, невероятное какое-то сочинение, прозвучавшее сегодня по радио, назойливо вертелось в голове, повторяясь снова и снова, в такт шагам, под скрип слежавшегося сухого снега. От усталости, что ли, трудно было от дурацкой песенки отвязаться или это разрядка такая? Пришло же кому-то в голову — взять и разрезать слово, оборвать колдовскую и точную связь слогов, превратить живое в мертвое и бессмысленное…
Даша идет по улице, снег похрустывает под каблучками, легкий мороз сменил наконец унылую слякоть. Все сразу стало другим, чуть ирреальным — деревья, дома, тротуары. А главное, стал другим воздух: радостным, молодым и волнующим.
Хорошо идти вот так, по морозцу, вбирая в себя эту свежесть и легкость, идти и чувствовать, что устала после интересного дня. Лекция, семинар, консультация к зимней сессии да еще Алехина прогнала по всему курсу… А лекция удалась безусловно, надо запомнить сегодняшний, неожиданный для самой себя поворот, использовать, когда утомляется аудитория.
Даша читала всему потоку, в Коммунистической. По собственным студенческим годам помнит: в этом полукруглом зале на галерке звук гаснет, его нет почти, надо его форсировать. Правда, на галерке сидят записные сачки, Дашин фольклор, в общем-то, им ни к чему, но и сачков можно пронять, из них ведь тоже вырастают филологи, иные не без таланта. Тридцать пять минут, положив на кафедру снятые с запястья часы, она приобщала непоседливых первокурсников к древним сказам, особо остановилась на былине о змеевиче, единственной дошедшей до нас из домонгольской Руси. А потом взяла да и прочитала наизусть строфу из последней песни Суханова, современного московского барда.
— Как, по-вашему, эти, например, песни — фольклор? Народное это творчество?
Притомившаяся в духоте аудитория встрепенулась, зашевелилась и зашепталась: Дарья-то откуда Суханова знает? Это же их песня, семнадцатилетних! Недаром, значит, среди студентов считается Даша своей: модные очки с затемнением, блестящие прямые волосы, подстриженные по-молодому, ходит в брюках и свитерах — никогда и не скажешь, что преподаватель. Но чтоб знала их песни…
Ах дурачки, дурачки! Дочь есть у Даши, и ей шестнадцать. А это значит — маг хрипит на весь дом (когда Высоцкий), просит о чем-то задумчиво-нежно (Долина Вероника), пристально и серьезно вглядывается в нашу сложную жизнь (Егоров, Дулов, Валерий Боков). Как же Даше всех их не знать? Сначала сердилась, нажимала красную кнопку «стоп» под Галкин протестующий ор, потом привыкла, прислушалась, стала вникать в слова… Ну почему мы всегда только так? Почему не стремимся понять наших детей сразу? Любим ведь Окуджаву, светло печалимся вместе с ним: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более что жизнь короткая такая…» Но он певец нашего поколения, а у нынешних молодых есть свои — выразители их мыслей, их чувств, Многое из того, что они поют, останется людям как раз поэтому.
Вот и сейчас. Одно только имя, одна строфа — и точно вода побежала по рядам, их омыла — выше, выше, еще выше, к самой галерке, к обаятельно-беспечным сачкам. Подсознательно Даша на то и рассчитывала: стряхнуть пыль с веков, приблизить давно ушедшее. Фольклор — и Суханов, его горячие, сегодняшние слова — и что-то такое далекое, столетия между двумя фразами!
— Ну, что смущает? — чуть насмешливо поинтересовалась Даша. — Что здесь неясно? По-вашему, фольклор — только то, чему сотни лет, то, что без автора? А ведь через другую сотню и наше «сегодня» станет историей, хотя нам повезло: есть письменность. Но если Суханова так и не издадут, он, как вы думаете, пропадет?
Нет, с этим они не могли согласиться: их певец пропасть не мог! Вот только при чем тут фольклор?
— Раз есть автор, то уж и не народное? — подзадорила первый ряд Даша.
Ряд кивнул не слишком уверенно: подвох явно чувствовался. А Даша ловко кинула сеть и всех их, мальков, разом поймала:
— Да разве бывают песни без авторов? Песни, плачи, сказания… Кто-то же их придумал, истории о царе Иване и его несчастном сыне, о богатыре змеевиче, о восстании в Твери — самая ранняя из дошедших до нас русских исторических песен… Да, кто-то придумал, напел, рассказал. Но придумал так, что выразил мысли и чувства целого народа или большой его группы, хватило интуиции, таланта, души. И песня пошла гулять по земле, обрастать вариантами, вбирать в себя диалекты, теряя по пути не очень точные строфы, получая взамен новые, точные. Автор забылся, пропал, кто он — уже не имело значения. Из сотен песен осталось несколько, но каких! Потому и до нас дошли. Вот и ваши барды… Они действительно выражают ваши радости и огорчения, ваш взгляд на жизнь, ваши надежды, а потому выражают время. Оно же, время, покажет, какие песни останутся. И то, что останется, смело можно будет назвать фольклором… Горела Русь, летела по ней татарская конница, все сметая на своем пути. Но не умирало искусство. Интересно, вы уже успели заметить, как горе, страдания вызывают к жизни великие творения духа?
Так Даша повернула их вспять, оживших и встрепенувшихся, решив на втором часу сделать такую же перебивку. В перерыве собиралась выпить кофе, да задержал Ерофеев. Длинный и тощий, воинственно сверкая очками, он рванулся к ней сразу, чтобы помешать выйти, потрясая старой лохматой книгой. Согнувшись чуть ли не вдвое, обнимая кафедру выросшими из пиджака руками, утянул в спор, как всегда интересный, выстроенный по его собственной, изощренной логике. Но Даша к логике той привыкла и ерофеевские диковатые идеи любила.
— Володя, — спохватилась она, когда до звонка оставалось минут пять, не больше, — додумаем вместе потом, ладно?
— Да вы послушайте…
— Нет, слушать не буду. — Даша заставила себя рассердиться. — Не могу больше вас слушать. Пять минут осталось, дайте хоть покурить!
Ерофеев расстроился, но Дашу из кольца своих длинных рук выпустил — вместе с кафедрой составляли они тесный загон, — и она вырвалась в коридор, выкурила у окна горькую сигарету — вот и весь ее отдых.
Перед семинаром как была, не накинув даже пальто, Даша сбежала в подвальчик под аркой, чтобы выпить кофе. Кофеварка — пропади она пропадом! — опять оказалась сломанной, пришлось хлебать чай — прохладную бурду неопределенного цвета, отдававшую веником и посудным полотенцем. Даша расстроилась и накричала на семинаре на Валечку Персину, пышную красавицу, безнадежно влюбленную в холодного эрудита Ронкина. Что, в самом деле, за дьявол такой бесконечный: никогда ничего не делает и не знает! Смотрит на своего Ронкина, думает о нем и молчит. А он, как назло, ее даже не замечает. «Ну вот и выучи плачи, — мысленно увещевает ее Даша. — Раз не везет в любви, возьми да и выучи плачи. И поменьше, дуреха, ешь булочек, еще не все потеряно: вон у тебя очи какие! Опомнится твой Ронкин. А ты пока плюнь на все да учись!» Но Валечка абсолютно невосприимчива к телепатии.
— Персина! — раздражается Даша.
Валечка вздрагивает. Огромные бархатные глаза на миг отрываются от жестокого Ронкина, и такая в этих глазах печаль и незащищенность, что Дашино сердце смягчается.
— Вас, Персина, в другой раз спрошу обязательно, готовьтесь, пожалуйста. За семестр не сдали ни одной былины.
Валечка торопливо кивает: рада, что на сей раз оставляют в покое. Ронкин бросает на нее невидящий машинальный взгляд — реакция просто на голос, — и она вспыхивает как сухое деревцо от лесного пожара. Свет плещет из ее очей, рдеют крепкие молодые щеки.
— Дарья Сергеевна, я учу…
— Вот-вот, учите. Алехин, к вам это тоже относится. Алехин! Обратите на меня благосклонное ваше внимание…
— Дарья Сергеевна, я слушаю…
Два законных сачка на курсе. Алехин — сачок прирожденный, природный, лихой острослов и всеобщий любимец. Персина — сачок поневоле: влюблена до обалдения, да еще и глупа, бедняга. С Алехина Даша сдерет три шкуры, ведь может, стервец, учиться, только пока все празднует окончание школы, в восторге, что нет уроков, что он студент и ему не ставят отметок.
— Консультация окончена. Вас, Алехин, прошу задержаться.
Надо бы, вообще говоря, домой, мама ждет не дождется — Даша везет продукты, — однако грешно оставлять Алехина в блаженном неведении. Минут пятнадцать гоняет она его по фольклору, с веселой яростью доказывает, как здорово он ничего не знает. Худенький, белобрысый мальчишка огорчен ужасно, по озорной детской мордочке разлито недоумение: он-то думал, все у него в ажуре.